|
|
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Кочетова П.В.


 В истории нашей страны много славных и героических страниц. Создают историю, как известно, люди своим самоотверженным трудом, своей любовью к Отечеству, свободе, справедливости.
В истории нашей страны много славных и героических страниц. Создают историю, как известно, люди своим самоотверженным трудом, своей любовью к Отечеству, свободе, справедливости.
Студенты военной кафедры побывали в гостях у Кочетова Петра Васильевича, стоявшего у истоков нашего Университета, ветерана Великой Отечественной войны и просто интересного, доброго, отзывчивого человека.
В беседе Пётр Васильевич рассказал о своём жизненном пути и ответил на некоторые интересующие студентов вопросы.
Пётр Васильевич Кочетов родился 27 мая 1924 года. Окончил школу в сельской местности Горьковской, а в настоящее время Нижегородской области, в 1940 году поехал продолжать учебу в Ленинградский техникум.
Во время Великой Отечественной войны Пётр Васильевич служил в 79-м отдельном разведывательном батальоне, который был придан 2-му гвардейскому Тацинскому танковому корпусу, где Пётр Васильевич и получил своё первое боевое крещение.
– Пётр Васильевич, расскажите, как Вы были призваны в армию?
– Я на фронт попал после Ленинграда… Отец умер очень рано, когда мне было всего 17 лет. Мои родители жили в Нижегородской области в городе Горьковский. И вот я случайно во время войны оказался в Ленинграде. В город я поехал на учебу в техникум, а в Академии имени Буденного мой дядя был деканом факультета и имел звание полковника. В 1941 году Академия была эвакуирована. Прошло время, и я закончил этот техникум. Теперь мне нужно было уехать из Ленинграда, а дядя полковник говорит: «Ну куда ты спешишь? Война не должна так долго затянуться». Но я тогда и остался там, а ведь нужно работать, только рабочие могли продукты получать. 8 сентября первый раз бомбили Ленинград, и тогда же сгорели все склады, которые горели 3-4 дня и их невозможно было потушить. После этого очень мало стали давать продуктов – чёрный хлеб по 125 грамм на сутки. С Ленинграда я уехал с помощью военных на самолете через Ладожское озеро, а потом на товарном поезде, где были койки в три яруса, в Нижегородскую область. Приехал в начале января, а меня призвали в армию в июне 1943 года. А был призван в город Выкса Нижегородской области, где был учебный полк. Нас обучали на шофёров. В январе обучение закончилось, и нас отправили в Нижний Новгород получать машины БТР, где экипаж состоял из двух человек: шофёр и стрелок. Затем нас перебросили в Ивановскую область, которая находилась рядом. Тогда я попал в танковую разведку. Меня назначили командиром отделения. Там мы пробыли месяца три. В 1943-м ещё до наступления войск немцев на Белгород. Затем я принял первое боевое крещение на Орловско-Курской дуге. Бои были колоссальные, про такие я даже не читал. Была такая деревня – Прохоровка, где встретились танки – немецкие и наши, на пересечённой местности, но, по сути, там одни холмы. На одном конце наши танки, на другом – фашистские. Представьте, прямой наводкой били! Из-за холма как бы выходит отара овец… всё танки, танки… и бьют прямой наводкой! Тогда мы ездили на английском гусеничном БТР, где экипаж состоял из 6 человек. Это были самые тяжелейшие бои. Нас там побили. Затем снова нас отправили на переформирование и мы увидели, что с батальона осталось всего три машины! Оттуда нас отправили под Елец. Там мы встретили бой, где получил лёгкое ранение, и пробыл месяц в санчасти. Чтоб нас не отправлять на войну, мы помогали на кухне. Прошло время, и мы уже попали под Минск. Я был уже не на БТРе, а на легком танке.
– Были ли у Вас серьёзные ранения?
– В 1944 году был серьёзно ранен, что сейчас боль дает о себе знать (показывая на ногу). Я был ранен в Прибалтике при форсировании реки Неман. Всех раненных в Ригу привезли. Нас в школу положили. Раненых много, не успевали обрабатывать. Приходилось их выкладывать прямо на улице, на тротуарах, потому что мест не было. Нас охраняли те раненые, которые были более-менее боеспособные – ранение в руку или в ногу. Также приходили местные жители – приносили вещи, ягоды всякие, еды немного. Отношение хорошее было. Понимаете? Все заодно! Единой целью связанные – защитить Родину и добиться мира. Так вот, раненых обработали, и сразу на поезд – увозили в тылы. Если честно, я даже не помню, как меня ранило. Нам нужно было перейти реку, и вот тут разорвался снаряд – я потерял сознание, а в себя пришел только в Риге. Нога были перебита, а потом не так срослась – не было таких приборов, чтобы определить всё точно. Гипс тут же наложили и всё – ночью в поезд. А везли куда… ну, первое – Москва… Москва не принимает, дальше Киров – не принимает, Свердловск – не принимает… ну принимает, правда, только тяжело раненых. Так вот, везли или в Красноярск, или в Томск. Меня – в Томск. Только меня демобилизовали с июня до января 1945 года, и после этого я больше не попал в армию, так как дали инвалидность третьей группы на 6 месяцев. А я так и остался в сельской местности.
– Что было самым страшным на войне?
– Самая страшная была Орловско-Курская дуга, когда наши и немецкие танки шли лоб в лоб прямой наводкой. Самое первое впечатление было в этом же бою. На третий день, когда мы туда попали, было очень страшно! До этого мы стояли под Белгородом спокойно. Даже трудно представить какие бои шли. А остальные бои были под Минском.
– Как вы проводили минуты отдыха во время войны?
– Когда мы были в Ивановской области, кормили нас плохо. Электричества не было. Сразу после подъема зажигали коптилку, которая была металлическая. В то время мы были в каком-то клубе. Вдруг подъём в 6 часов. В первую очередь нужно было идти в лес за дровами. После завтрака начали обучать вождению машин и военным дисциплинам. Холодно тогда было очень! А то, что какое-то хорошее впечатление осталось, как мы проводили время, я не могу сказать.
– Вы вели переписку с домом?
– Я письма писал маме, и она получала, а ответ от неё до меня не доходил, так как был в движении: новые части, формирования. Получил уж только в госпитале от дяди, который с Ленинграда. Интересный случай был. Я ехал после ранения в Томск, а в это время дядя выезжал из Томска и мы где-то в пути встретились. Он отправлялся в Ленинград. Его академию отправили в Москву. Как только расположился в госпитале, так сразу отправил весточку дяде, где сообщил, в какой больнице я нахожусь. Прошло две недели и мне говорят: «Кочетов, к тебе пришли». Первая мысль была, что это дядя. А оказалось, что пришел молодой человек, который тоже был после ранения. Он жил в Томске. Молодой человек и говорит: «У моих родителей жили на квартире твой дядя с женой». Так мы познакомились с ним и дружили.
– Вы брали немцев в плен?
– Так как я был в разведке, то во времена затишья на Орловско-Курской дуге, нам надо было привести «языка» – вот наша задача была. В июле ночи очень короткие, и вот нужно пройти зону к немцам и взять этого самого «языка». И нам однажды… ну, не сразу, мы раза два или три ходили… это ведь надо было выследить, куда идет этот «язык»… повезло, и мы взяли в плен «языка». Правда, понесли потери – 2 человека… Но взяли! За это нам дали медали «За отвагу» – эта медаль самая дорогая для меня
Раньше награждали, как правило, офицеров, и до рядового дело не доходило. И после всех боёв получил награды за Минск и за Белгород. Но это уже после войны.
– Пётр Васильевич, не могли бы Вы рассказать о своих командирах?
– Я вот помню командира роты – старший лейтенант родом из Казахстана. Отличный был мужик, всегда его уважал – уж очень хорошо он относился к солдатам. Помню командира, полковник – он всегда защищал солдат. Был русский, но ходил с палочкой или тростью. Если только кто из солдат говорил, что к ним кто-то плохо относится… то он сразу! Ну вы меня понимаете – дисциплина! Жуков. Вот его все знали, все уважали – был примером для всех!
– Расскажите, как Вы узнали, что война закончилась?
– Я был в сельской местности в Нижегородской области. А там был телефон в сельсовете, который состоял из 6 колхозов. 10 мая мужчина на лошади прибыл и сказал, что война закончилась. Тогда мы встречали первых демобилизованных ребят. Я так и остался в деревне до 1946 года.
– Пётр Васильевич, а как сложилась Ваша судьба после войны?
– После войны я приехал в Томск. Тогда ещё ранение давало о себе знать, и мне приходилось ходить с палочкой. А у меня мама работала бригадиром и как-то говорит мне: «Давай вместо меня будь бригадиром». А я отказывался и говорил, что ещё молодой и в ответ слышал: «Научишься!». И всё-таки я стал бригадиром вместо мамы. В сельском хозяйстве было очень тяжело: машин не было, лошадей забрали на фронт. И я помню, что всего в бригаде было 6 лошадей. А ведь надо пахать! И в то время стали обучать коров для пашни. В 1946 году я уехал учиться в Москву, некоторые пошли доучиваться в школу. А как повлияла война на судьбу – тяжело сказать. Но хочу отметить, что и женщины, и дети работали не покладая рук. Тогда женщин называли «солдатки». Мужчин не было. Например, в нашем поселке, где было всего три мужчины на 25 домов: дядя Степан, дядя Семён и я. Я учился у них как быть бригадиром, а они мне поговаривали: «Ты учись, учись, но и надо работать». Ребята, которые первые возвращались с войны, а тогда их было человек семь или восемь, стали работать все в колхозах. Их назначали на должности старших бригадиров. А молодые ушли учиться. Тогда служили по шесть или семь лет. И я помню, что со мной в общежитии жили такие ребята, которые так долго служили. Потом все стали в институт поступать.
– Как Вы встретили свою жену?
– Я свою жену встретил, когда мы учились в Московском институте связи. Она училась на экономическом факультете, а я на факультете МЭС, но в один год его заканчивали. Она была отличница. Её и меня оставили в аспирантуре, но я не смог её закончить по болезни. Тогда меня и многих других Министр связи Псурцев отправил в Новосибирский институт связи. В 1953 году я приехал сюда, а она осталась там. Я работал преподавателем, а она так и училась в аспирантуре. Прошел год, она закончила учёбу и тоже приехала в Новосибирск. Но она только кандидатскую защитила после третьего года, проработав преподавателем. В те времена сложно было защититься.
– Расскажите немного об университете.
– Я всю жизнь проработал в институте. Тогда НЭИС, сейчас СибГУТИ, но суть одна. Раньше было как – декан и замдекана отвечали за всё. И вот я был замдекана около 20 лет, а вот Александр Францевич Зеневич – мой близкий друг, был деканом факультета МЭС. Я занимался первым, вторым, третьим курсами, а Зеневич – четвёртым, пятым. Если кто из студентов провинился – вызывали почитать мораль. Не помогало – вызывали родителей в субботу в нерабочий день, чтобы поговорить. Тогда же собрания были различные для студентов. Ведь мы болели за них. С Зеневичем – хорошие друзья по жизни и хорошие коллеги по работе, берём журнал на проверку, как студенты на лекции ходят. Вот ведь в чём дело! Везде была дисциплина и контроль. Если что не так – сразу вызывали на беседу.
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее про Зеневича Александра Францевича.
– Я был на Западном фронте, а он на Востоке. Он был моряком. Александр закончил тоже Московский институт связи, только чуть раньше меня, попав по распределению в Хабаровск. Там проработал года два или три и по заявлению о переводе попал в Новосибирск, где тоже работал в институте связи. Тут он защитил кандидатскую, будучи начальником учебной части. Стали мы работать вместе: он деканом, а я заместителем декана факультета МЭС. Долго, лет 20 проработали вместе. Затем ректором стал Босенко, а до него был Наумов. Когда Наумов пошел на пенсию, стали меня спрашивать, кто должен быть проректором по учебной работе, и я посоветовал Зеневича. «А с кем бы ты стал работать, кто бы был деканом?» – и я ответил, что с Круком Борисом Ивановичем. И я предупредил, что я останусь работать ещё два года, чтоб кого-то научить, а потом уйду на пенсию. Прошло два года, я встретил ректора Босенко и проректора Зеневича и сказал: «Всё, я проработал два года. Свой договор выполнил». Но потом меня «сосватали» с факультетом повышения квалификации. А до меня там работал полковник Панарин, а потом он заболел. Я долго там работал. По сути дела с помощью сил Босенко, Зеневича и моих сформировался курс повышения квалификации. В 1990 году везде факультеты организовали: и в Одессе, и в Ташкенте, и в Москве, и в Ленинграде и в Куйбышеве. Когда вся система рухнула, то только у нас остался такой факультет. Но вдруг моя жена заболела, а мне тогда мне было 73 года, и я окончательно решил уйти.
– Спасибо Вам, Пётр Васильевич, за эту интересную беседу.
Мы благодарим Петра Васильевича и желаем ему крепкого сибирского здоровья, мирного неба и долгих лет жизни!
Коллектив военной кафедры СибГУТИ
Беседу провели студенты военной кафедры:
Касьянова Ольга, Фасольняк (Сечкина) Мария,
учебный взвод Ф-114, инженерно-экономический факультет
|










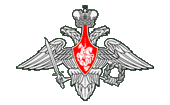


 В истории нашей страны много славных и героических страниц. Создают историю, как известно, люди своим самоотверженным трудом, своей любовью к Отечеству, свободе, справедливости.
В истории нашей страны много славных и героических страниц. Создают историю, как известно, люди своим самоотверженным трудом, своей любовью к Отечеству, свободе, справедливости.